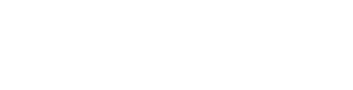Воспоминания Альты Махмутовой. 1 часть

МӘХМҮТОВА АЛЬТА ХАҖИ КЫЗЫ: ХЕЗМӘТКӘ ҺӘМ ХАЛЫККА БАГЫШЛАНГАН ГОМЕР
2022 елның 9 июнендә Альта Хаҗи кызы Мәхмүтовага 85 яшь тулган булыр иде, матур итеп юбилеен уздырган булыр идек. Ләкин 2021 елның 10 апреленда ул мәңгелеккә китеп барды. Аның юбилеен уздыру урынына, истәлекләрен генә язарга туры килә инде.
Гомеренең соңгы елларын ул туган авылы Бәзәкәнең тарихын җыеп, китап итеп бастыру теләге белән янып йөрде. Инде теләгенә ирешкәннән соң, кинәт эше калмады. Укучылары, хезмәттәшләре, тарих белән кызыксынган кешеләр шалтыратып тордылар, килгәләделәр дә. Ә Альта апа бөтен белеме белән аларга булышырга тырышты. Андагы белем хәзинәсенең байлыгына исең китәрлек иде. Барысын да үзе белән алып китте...
Ләкин китап язам дип атлыгып йөргән көннәр кисәк бушап калды. Мин аңа мемуарлар – истәлекләреңне язар идең, - дип карадым. Шуннан теләр-теләмәс кенә язарга тотынды. Безгә бернәрсә дә әйтмәде, укымады, күрсәтмәде. Үзенең теләге булмаса, күрсәтмәячәген белгәнгә, мин дә сорамый идем. “Язасыңмы?”- “Язам”нан башка бернәрсә дә белмәдем. Китеп баргач, компьютерында эзләп таптым. Менә шушы Альта апаның соңгы язмасын сезгә тәкъдим итәм.
Мәхмүтова Әнисә Хаҗи кызы, 2022 ел, апрель
Военное детство
На Земле бессмертны лишь две вещи – воспоминания и память.
Восточная мудрость
Я начала писать эти воспоминания в преддверии 75-летия Победы над фашистской Германией, Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.
Две даты – 22 июня 1941 года и 9 мая 1945 года. Между ними – 1418 дней, навсегда врезавшиеся в память поколений не только переживших их, но и их потомков. Ведь не случайно появились такие движения, как «Никто не забыт, ничто не забыто», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» и другие.
Война… Война, как и жизнь, у каждого своя. И отношение к ней – и у переживших лихолетья войны, и у родившихся спустя многие десятилетия после войны, надо полагать, у каждого свое. Мы живем в эпоху, когда с каждым днем все меньше становится не только участников, но и тех, кто ребенком вместе со всеми пережил тяготы войны. И воспоминания о тех непростых годах становятся все ценнее. Ведь память о тех миллионах, кто ценою своей жизни, неимоверным трудом на фронте и в тылу добивался победы, священна …
И у меня свои воспоминания о войне и ее начале. 22 июня 1941 года, когда в одночасье изменилась жизнь…
Мне только что исполнилось четыре года. И я в деталях помню эти мгновения. Мы дома. Мама занята мной и моей маленькой сестричкой, которой только что исполнился год. Мы весело играем. Тихо звучит какая-то музыка по радиоприемнику. Вдруг музыка прерывается, звучит мужской голос. Мама бледнеет, беззвучно шепчет «сугыш» (война), прижимает нас к себе, а мы обе вдруг почему-то начинаем громко плакать. Это, видимо, состояние тревоги, исходящее от этого голоса по радио, от маминого беззвучного шепота, передалось нам от мамы, и мы от страха дружно заплакали, хотя ничего не понимали. Это первое мое воспоминание.

Начало войны я помню так: на улицах стало много людей, «взрослые дяденьки» собирались кучками, много говорили. Парни же, сидя по нескольку человек на тарантасах и телегах, ездили по улицам, играли на гармошках и пели. Мне казалось, что это весело и празднично. Празднично потому, что играла гармонь, звучали песни, что в детском сознании, видимо, означало праздник. Но все были встревожены, женщины плакали. А я не понимала, почему все это так происходит. Мама объяснила, что где-то далеко от нашей деревни началась война, что эти парни отнюдь не веселятся, а уезжая на фронт, чтобы защитить нас от врагов, так прощаются с деревней, с нами. Так я узнала такие слова, как «сугыш», «дошман» (враг), «фронт», к которым затем прибавились и многие другие.
Следующие мои воспоминания о войне связаны с проводами на фронт отца и брата. Старший и единственный брат – Шариф абый (1923-2001) – летом 1941 года перед самой войной закончил учебу в елабужском педучилище. Поэтому он призывался в Елабуге, а не в районном военкомате в Бондюге (Менделеевске). Провожать его с друзьями в Елабугу поехал отец. Я тоже оказалась в числе провожатых (видимо, потому, что в Елабуге жили мамины родители). Мы ехали на двух тарантасах, ехали очень долго. Наступила ночь, было полнолуние и очень тепло и светло. Я засыпала, просыпалась, а мы все никак не могли доехать… Это была, как я уточнила позже, ночь с 7 на 8 августа. Утром Шариф абый простился с нами и ушел на войну. Сохранилась фотография, на обороте которой Шариф абый написал: «Мы сфотографировались после расставания с вами восьмого в три часа. А сегодня утром, 9 августа, забрали. Я сфотографировался для того, чтобы у вас была память обо мне, если я не смогу вернуться. Не теряйте, не рвите, поместите в рамку. Ваш сын Махмутов Шариф. 9 августа 1941».
Проводы папы тоже были летом. Это происходило днем 25 августа. Меня не стали отводить в детский сад, чтобы папа мог попрощаться и со мной. Когда уходили из дома, в открытое окно неслись звуки музыки – играл патефон с любимой папиной пластинкой с народными мелодиями “Салкын чишма” и “Каляу Гайша” (эти мелодии с тех пор у меня ассоциировались с проводами папы на фронт; когда я слышу эти нежные, грустные мелодии, у меня и сейчас щемит сердце). Вместе с папой уходила на фронт целая группа мужчин. Мама и другие женщины поехали провожать их до пристани Тихие Горы. Было очень грустно. Я очень расстроилась, плакала, потому что мама категорически отказалась брать меня с собой. На околице села у кладбища меня с трудом оторвали от папы мама и воспитательница детского сада Файруза апа, которая привела туда группу детей проводить уезжавших на войну…
По рассказам мамы 1941 год оказался весьма урожайным. И все село – и остававшиеся пока еще в деревне мужчины, и женщины, и старики, и подростки – все вместе торопились заготовить сено, убрать урожай. Мужчин же, работавших на лугах и в поле, с каждым днем становилось все меньше. Так, в разгар страды женщинам все чаще приходилось заменять в поле мужчин, ушедших на фронт. Забрали из деревни для фронтовых нужд и единственную грузовую машину, и трактора, становилось все меньше лошадей (их тоже отправляли на фронт).
В сентябре пришло письмо от папы. Он оказался недалеко от Казани, в марийских лесах в Суслонгере (ставшим печально знаменитым своими ужасными условиями содержания накапливаемых там для отправки на фронт людей - А.М.). Мама съездила к нему, отвезла теплые вещи и еду. Во вторую поездку, в октябре, она взяла с собой и меня, так как папа просил привезти кого-либо из детей. Я помню, как мы ехали на пароходе. Была поздняя осень, холодно. Все для меня было ново, незнакомо, удивительно: большой белый пароход, множество людей, проплывающие мимо берега... Меня особенно очаровал строгий капитан в своей белой великолепной одежде (у меня появилась заветная мечта — я решила, что когда вырасту, стану капитаном...). В Казани на пристани было много народу, шум, гам, толчея. Мы сели на трамвай, который я увидела впервые. Один мужчина в военной одежде уступил мне место, а мама стояла рядом, держась за петлю из брезента на верхней перекладине. Трамвай двигался без лошади, сам по себе, весь дребезжал, трясся, стучал. Мне было страшно, однако любопытство превосходило: все вокруг привлекало мое внимание. Оставив меня у знакомых, мама поехала к папе, но вернулась очень огорченной. Оказалось, что именно в тот день, 29 октября 1941 года, рано утром папу отправили на фронт…
Обратно домой мы добирались очень долго, около недели. Мы едва попали на один из последних переполненных пароходов. Было очень холодно. Шел дождь напополам со снегом. Я сильно простудилась еще на пути в Казань, а тут мое тело, особенно ноги, покрылись фурункулами. Когда мы наконец-то добрались домой, мои прилипшие к ногам чулки сняли с меня вместе с кожей только после отмачивания в ведре с теплой водой. Единственно приятная вещь от той поездки – мама в Казани купила мне кубики с буквами и другие игрушки. И очень скоро с их помощью я научилась составлять слова, а затем и читать. С тех пор чтение стало самым любимым моим занятием на всю жизнь…
Мама, как и все школьные учителя, очень много работала. Мы с сестрой Алисой ее почти и не видели. Из воспоминаний мамы: «После проводов вашего отца я осталась с четырьмя девочками. Старшие – ваши сводные сестры Назия и Рамзия - учились в школе, Альта ходила в садик, а маленькая Алиса оставалась дома, так как в садик брали только одного ребенка из семьи. За Алисой присматривала Банат апа Галеева, жившая по соседству. Кроме того за вами присматривали и ее брат Ясави с женой Минникамал, которые болели, не могли работать в колхозе и поэтому были всегда дома. Беспокоило отсутствие известий от вашего отца, который прислал только одно письмо с дороги и пропал без вести… В школе было много работы: не хватало учителей-предметников, так как учителя-мужчины (а их было большинство в школе) друг за другом уходили на фронт; приходилось искать им замену среди девушек, только что окончивших десять классов и даже среди старшеклассников. Все учителя работали по две смены в школе и вели занятия по нескольким предметам. Кроме того, учителя вели большую общественную работу среди населения».
Но вернемся в весну 1942 года. Мама рассказывала, что зима 1941-1942 годов была суровой, вымерзли яблони в колхозном саду и в нашем саду у дома. Наступила весна. В марте 1942 года приехала какая-то комиссия. Мама, как завуч школы, сопровождала их всюду: то в школу, то в сельсовет, то в правление колхоза, то в детский сад. Во время одного из таких переходов она провалилась в речку (через нее надо было переходить, чтобы попасть в школу и обратно, в деревню из школы) и весь день проходила в мокрых валенках. Мама вскоре заболела. Все сначала думали, что это обычная простуда. Но болезнь не отступала, мама все больше слабела, уже не могла ходить, не вставала с постели.
Я помню эти дни. Было очень тревожно, тем более, что приходившие проведать маму женщины говорили в задней избе очень страшные вещи: что мама уже не узнает людей, она умрет или сойдет с ума, что нас с Алисой отправят в детдом (а что это такое, я уже знала из разговоров взрослых)... Я часто забегала к маме с вопросами: «Мама, ты не умрешь? Мама, ты узнаешь меня? Кто я?». Мама меня успокаивала, я выбегала в заднюю избу и кричала: «Мама не сошла с ума, она меня узнала...». Это повторялось много раз до тех пор, пока в очередной раз от измученной болезнью и моими расспросами мамы я не услышала в ответ: «Син Эшти кызы Сания» (так звали соседскую девочку, грязную, оборванную, которую мне обычно приводили как антипример), и я выскочила от мамы с плачем и криком: «Мама сошла с ума!». Это было такое потрясение для меня, что я перестала заходить к маме, замкнулась в себе, сидела тихо в углу и плакала...
Маму увезли в больницу в Бондюгу (ныне Менделеевск). Видимо, это был уже конец апреля (возможно, начало мая), так как снега уже не было, было сухо (что было дальше, я опишу с более поздних рассказов взрослых). В больнице установили страшный диагноз – менингит, который не только в то время, но и в наши дни почти неизлечим. Через какое-то время наступил кризис в болезни мамы. Лежавшую без сознания маму уже сочли мертвой и отправили в морг. Но в это время, на наше счастье, проведать маму приехал из Елабуги мамин брат Шахвали абый, прибывший с войны на побывку после контузии, и обнаружил, что мама еще дышит. Он поднял шум, маму перенесли обратно в палату. Мама начала выздоравливать, ее организм постепенно справился с болезнью (мама всю свою жизнь с благодарностью вспоминала своего брата и вылечившего ее опытного доктора Чоловского, эвакуированного из Ленинграда).
В один из дней, в свой очередной поход в Бондюгу к маме в больницу, Назия апа – старшая сестра взяла меня с собой. Мы шли пешком (тогда не только машин, но и лошадей-то не было). Это был жаркий летний день 1942 года. Я всю свою жизнь не перестаю удивляться тому, как сестра решилась взять ребенка в дальнюю дорогу: мне только что исполнилось пять лет, а пройти нужно было 12 километров. Естественно, я устала, стала проситься домой, и на полпути мы остановились отдохнуть под дубом (там был длинный подъем, а посредине этого подъема рос дуб). Я не знаю, как Назия апа справилась бы со мной. Но тут появился незнакомый дед с котомкой. Он угостил меня засохшей корочкой хлеба, показавшейся мне очень вкусной, и предложил взять меня с собой. Конечно, я испугалась и, забыв о капризах и усталости, поплелась дальше. Так мы еле-еле добрались до дома, где жили бабушка и двоюродные сестры Наиля и Файруза. Назия апа, оставив меня у них, пошла в больницу, а затем отправилась обратно домой. К маме я попала на следующий день. Повела меня к ней Наиля апа. Мама была очень исхудавшая, но уже полусидела, разговаривала тихим голосом. С помощью сестры она даже повернулась ко мне боком, и я увидела у нее на спине какой-то черный круг. Видимо, это был большой синяк вокруг места, откуда брали пункцию, но запомнился он мне как большая черная дыра в маминой спине.
Маму привезли домой в начале осени 1942 года. Она была еще очень слабой, могла лишь с большим трудом немного передвигаться по комнате. Произошло нечто странное, непонятное для моего детского сознания: наша семья поделилась надвое: сводные сестры стали жить в задней половине дома, мы – мама, Алиса, я – в передней; готовить и питаться стали по отдельности; даже корову доили и, соответственно, ухаживали за ней через день по очереди и т.д. Мама была очень слаба, мы же слишком малы для домашних дел. Нам помогали справляться с домашними делами соседи, старшеклассницы, а позже, когда умерла Банат апа, проводившая мужа и сына на фронт Адия апа Мухаметзянова с дочерьми.
Запомнился такой факт. Поздняя осень. Все приусадебные огороды уже убраны, только с нашей половины огорода не убрана картошка. Огород наш располагался внизу у речки. Яркий солнечный осенний день. К нам пришла группа девушек, среди которых я помню Амину Бадретдинову и Шаргию Ибатуллину. С шутками, смехом они стали выкапывать картофель и носить его в ведрах и мешках наверх во двор. Картофель уродился крупный. Мы с Алисой тоже «помогали»: нам на руки укладывали две-три картофелины, которые мы гордо несли наверх. Мама сидела на крылечке, хвалила нас, благодарила девушек. Так был спасен наш урожай, а мы обеспечены картошкой на зиму.
Мама постепенно поправлялась, стала заниматься хозяйством. Наступила зима. Нужно было привезти из-за Камы дрова, которые выделили маме как учительнице, (учителям отпускали заготовленные в лесу на дрова бревна). Колхоз выделил маме лошадь и помощников, и они уехали. Их не было целый день, нам было голодно, холодно и страшно. Наконец, мама вернулась, успокоила нас, накормила, и мы уснули. Посреди ночи мы проснулись от громкого стука в ворота. Мама ушла. Мы с Алисой жались в темноте друг к другу… Оказалось, что нашу корову задрали волки (был наш черед присмотра за коровой, а мамы не было; кто-то оставил ворота открытыми, корова ушла со двора и не вернулась; мама вечером ее поискала, но не нашла и оставила поиски до утра; корова оказалась в поле, пыталась убежать от волков, но ей преградили путь закрытые полевые ворота в деревню). Ее, окруженную у полевых ворот стаей волков, обнаружил сторож, сумел как-то отогнать их. Корову, еще живую, привели домой. Но ее нужно было прирезать, так как волки разорвали ей вымя. Так в начале 1943 года мы остались без коровы-кормилицы. Что это значит для военного времени, объяснять не нужно.
В 1942-1943 учебном году мама не работала в школе, долечивалась, была на инвалидности. Но уже в конце зимы она стала работать в колхозе звеньевой бригады, к которой она была прикреплена как агитатор. Бригадиром полеводческой бригады была молодая девушка Файруза апа Гильфанова, и они вдвоем (были, наверное, и другие звеньевые, но я их не помню) «пропадали» на работе, готовясь к весеннему севу. Мы снова стали видеть маму очень редко: она с головой ушла в колхозную работу. И только иногда они с Файрузой апа по вечерам сидели у нас дома и обсуждали планы работы. Утром нас обычно будил кто-то из дочерей-подростков Мухаметзяновой Адии (у нее было их пять человек от двух лет и старше, из которых старшая Сабира вместе с матерью была занята в колхозе, а Гамиля и Гайша по очереди присматривали за Алисой). Я уходила в садик, а Алиса с девочками или оставались у нас дома, или ее уводили к ним домой (в садик брали только одного ребенка из семьи, и Алиса начала туда ходить только в четыре года, когда я пошла в школу). Не только наша мама, но и все тогда так работали. С ранней весны до поздней осени в светлое время дома невозможно было застать ни одного работоспособного человека.
В один из весенних дней того же 1943 года мама привела молодую телку, худую, еле державшуюся на ногах от бескормицы. Ее мы назвали Манькой (так же звали нашу прежнюю корову), выходили, и на следующий год у нас появились молочные продукты от своей коровы. Несмотря на такие радостные события, как выздоровление мамы или появление у нас своей коровы, зиму 1942-43 годов я вспоминаю как одну из самых трудных в своей жизни. От папы по-прежнему не было никаких вестей, и мама очень переживала это. Она пыталась что-то выяснить через военкомат, но ей лишь выдали справку, что папа «пропал без вести».
Конечно, горе и переживания по поводу близких, были повсюду. Когда поздней осенью и зимой мама бывала дома, к нам по вечерам приходили соседки: прочитать или написать письмо на фронт, просто найти утешенье в разговорах с мамой или посидеть вечером с вязаньем вещей для фронта. Электричества в деревне не было. Дома освещались керосиновыми лампами. Они могли быть трехлинейными, пяти-, семи- или десятилинейными (в зависимости от ширины фитиля), со стеклянным пузырем (колбой) или без него (такие назывались «сукыр лампа (слепая лампа)», так как давали очень мало света). Обычно по вечерам зажигали маленькую настольную «сукыр» лампу, так как нужно было экономить: невозможно было купить ни керосин, ни фитиль, ни пузырь. У нас была для каждого дня семилинейная лампа без пузыря и большая десятилинейная висячая лампа с большим пузырем, которую зажигали, когда собирались соседки с рукоделием. Они делились своими горестями и заботами с мамой. Я любила слушать их разговоры. Мама была оптимисткой, и пыталась убедить соседок (и, наверно, прежде всего, себя), что мужья и сыновья отыщутся, придут письма, закончится война…
Как бы в доказательство своих слов, она доставала со шкафа одну из двух книг, завернутых в чистые салфетки, и открыв ее наугад, зачитывала отрывок из нее и на его основе внушала соседкам, что все будет хорошо, нужно лишь переждать тяжелое время, не опускать руки перед трудностями и неизвестностью. Я считала, что книги на шкаф мама убрала от меня, хотя прочитать их я бы все равно не смогла (я умела читать только на кириллице). Одна из книг была очень большая и написана арабской вязью, ее мама брала очень редко, когда никого дома не было. Вторая книга – это томик произведений Габдуллы Тукая на латинице. Эту книгу мама брала в руки часто – и при соседках, и без них. Это меня очень удивляло, так как мама знала все стихи Тукая наизусть. Я, конечно, спросила ее, почему она читает стихи, которые знает наизусть, по книге. Мама ответила, что в нужный момент не всегда приходят в голову необходимые строчки, а открыв книгу наугад, она всегда находит нужное для себя решение с подсказки первых прочитанных строф (такое использование книги называлось «фал ачу», фактически это было похоже на гадание-предсказание).
Зиму 1943-44 годов я вспоминаю как один сплошной вечер, когда в нашем доме собирались женщины с прядением и вязанием. Зажигалась большая лампа, было много людей, все пряли шерсть или вязали. Сначала собравшиеся делились сельскими новостями, рассказывали о полученных с фронта вестях, тут же перечитывались письма от мужей и сыновей. Мама рассказывала им о положении на фронте, затем давала мне газету, чтобы я читала вслух (в то время я уже хорошо читала, хотя еще не училась в школе), а сама тоже садилась вязать. Все они готовили теплые вещи для фронта. Мне особенно запомнились трехпалые варежки (чтобы удобнее было стрелять, вывязывался отдельно напальчник для указательного пальца). Мне тоже хотелось участвовать в общем деле, и Зафира апа, научившая меня вывязывать петли на спицах, оставила мне вывязывание одного напальчника. Взрослые вывязывали за вечер пару и больше варежек и носков, а я была горда тем, что смогла вывязать целый палец. Зафира апа вложила в эту пару записку, что напальчник вывязала шестилетняя девочка Альта, которая желает бойцу победы и скорого возвращения. Чувство гордости, которое я тогда испытала, не описать словами.
Зафира апа (она была старше меня лет на семь) – дочь переехавших в соседний с нашим домик Исмагила и Хамденисы Бахтигараевых, наших дальних родственников. Мы с Алисой очень быстро нашли приют в их теплом доме. У них, в отличие от нашего большого, часто холодного дома, и домик был маленький, и кто-либо постоянно был дома. Исмагил абый часто болел и работал дома - плел корзины по заданию промысловой артели для Бондюжского завода. Хамдиттай (так мы обращались к старшим женщинам) и ее сын-подросток Заки абый работали в колхозе и приходили домой только вечером. Зафира апа училась в школе, а после школы занималась домашними делами и помогала отцу. Именно Зафира апа научила меня вязать на спицах и крючком и многим другим житейским делам. Под ее руководством я даже научилась разжигать печку и в шесть-семь лет в первый раз на плите сварила суп. Не знаю, насколько он был вкусен, но мы его съели, а мама даже похвалила меня. Но тут же строго предупредила, чтобы без взрослых я не разжигала печь, так как может случиться пожар.
На долю сельских учителей круглый год приходилась самая разнообразная деятельность. Кроме учительских обязанностей они были ответственны за многое: учителя были агитаторами и пропагандистами, выпускали стенгазеты и боевые листки, отвечали за распространение государственных займов и сбор теплых вещей для фронтовиков; они писали письма на фронт, организовывали вязание теплых носков, варежек и перчаток из шерсти для солдат; они же вместе с учениками с мая по октябрь “впрягались” в колхозную работу. К тому же на них возлагалось и переучивание взрослых. После двухкратной смены татарского алфавита – сначала с арабской вязи на латиницу, а перед самой войной – с латиницы на кириллицу взрослые сразу превратились в неграмотных. Для начала их нужно было хотя бы познакомить с новым для них алфавитом. Я помню, к маме были прикреплены десять соседок старшего возраста. Иногда мама не успевала прийти вовремя на урок, тогда занималась с ними я. Надо сказать, что все “наши ученицы” были очень старательными – им хотелось и самим почитать письма с фронта, и написать мужьям и сыновьям хотя бы по нескольку слов.
Ко всем праздникам учителя и молодежь организовывали концерты самодеятельности или ставили спектакли. С зимы 1943 года в этих концертах начала участвовать и я. Первое стихотворение, которое я прочитала со сцены, я хорошо помню. Это было стихотворение Фатиха Карима “Папочка мой” (я лишь недавно узнала, что это стихотворение он написал от имени своей дочери Лейлы в 1938 году, когда был репрессирован). Содержание его очень подходило для военного времени: девочка спрашивает у матери, когда же вернется ее отец. Я помню, что почти все в зале начали плакать, и меня попросили еще раз повторить стихотворение, когда все успокоились. В дальнейшем я много раз участвовала в подобных мероприятиях со чтением стихов, и почти каждый раз меня просили прочитать еще и стихотворение “Папочка мой”. Моими особенно любимыми авторами были, кроме Фатиха Карима, Хади Такташ и Габдулла Тукай.
Проводились различные праздники и для детей – школьников и дошколят. Эти праздники проходили и в школе, и в детском саду, и в клубе. Так, есть фотография группы детсадовцев, которую сохранила Саима Шайдулатова (Сайфутдинова), и попала она в мои руки в достаточно потрепанном виде совершенно случайно 1 июня 2016 года при моей очередной поездке в Бизяки. На фотографии группа детей - участников новогоднего утренника зимы 1943-1944 года - наряженных для проведения новогоднего праздника в детском саду. Наряды, видимо, хранились с довоенного времени. Я помню, однако, как мы с мамой делали корону для меня, и мама прикрепляла на нее свои украшения, которые я не раз просила у мамы поносить.

Справа первая Альта Махмутова
Мама, несмотря на всю ее занятость, всегда старалась по возможности порадовать нас с Алисой то вкусной едой (это могли быть незамысловатые пироги, кыстыбый или шаньги с картошкой или пшенкой, овсяный кисель или просто печеная картошка, которая стала одним из моих самых любимых блюд на всю жизнь), то игрушками, которые она мастерила вместе с нами из подручного материала.
Помню, как летом 1944 года она решила накормить нас досыта медом. У нас всегда было один или два улья, и мама, взяв из ульев мед, поставила большой таз с сотами перед нами и разрешила нам поесть его досыта (так, чтобы потом мы не просили). Мы сначала поели один мед, затем с хлебом, с водой… Много ли его может съесть ребенок? Мы и есть больше не могли, но и сказать, что мы наелись, было выше моих сил… И я придумала: сказав, что мы еще не наелись, и убирать мед не нужно, мы пошли во двор поиграть. Потом немного поели и вновь пошли поиграть. Когда это повторилось несколько раз, мама решила прекратить этот бесконечный процесс. Как вспоминала мама позже, когда мы уже выросли, маме не удалось нас перехитрить, и мед для нас так и остался желанным лакомством.
Мы быстро росли, и мама всегда старалась одевать нас красиво. Когда нужна была соответствующая одежда, мама перешивала нам вещи из своей и папиной одежды. Иногда появлялась возможность сшить и из чего-то нового. Так, на 1-е Мая (1943 или 1944 года), где-то достав кусок бязи и выкрасив ее хинином (это были таблетки от малярии, которые окрашивали ткань в лимонно-желтый цвет), мама сшила нам очень красивые платья. 1-Мая, оставив нас в нарядных платьях во дворе дома у Файрузы апа, взрослые ушли в поле (было время сева). Во дворе стоял тарантас, и мы вместе с моим сверстником Заки, братом Файрузы апа, долго играли во дворе вокруг тарантаса. В результате наши с Алисой платья из нарядных превратились не просто в грязные, а оказались в черных полосках и пятнах (тарантас, оказывается, был только что выкрашен дегтем и оставлен сушиться). При всех моих стараниях вернуть былой красивый вид платьям не удалось (взрослых рядом с нами не было), и я не нашла ничего другого, как скрыть следы «преступления» от мамы. Придя домой, мы переоделись в другую одежду, а оба платья я спрятала в своем тайнике под чуланом. Занятая работой в школе и колхозе мама не сразу обратила внимание на отсутствие наших новых платьев…
В 1944 году я пошла в первый класс. Так как в этом году вышло постановление, по которому детей в школе стали обучать с семи лет, первоклассников оказалось много (двойной прием – восьми- и семилетних). Нас разделили на три группы. Моей первой учительницей стала Рахиля апа. Наш класс сначала располагался в здании нижней мечети, но через какое-то время нас перевели в основное здание школы, находившееся за речкой на горе. Возможно, это перемещение было связано с началом зимы. Для отопления двух школьных зданий требовалось очень много дров, которое учителя (в основном, женщины) должны были заготавливать сами.

Альта Махмутова в беретке рялом с Аминой Бадретдиновой
Школа находилась довольно далеко от нашего дома: если раньше до школы нужно
было пройти половину деревни по улицам (примерно километр), то теперь дорога была вряд ли короче, но шла она по пересеченной местности: большую часть дороги занимали пологий спуск к речке, переход через нее по льду или по временным мосткам; далее нужно было пройти по ровной долине речки и подняться на гору. Было три пути в гору: очень крутой подъем посередине холма, продолжавший нашу дорогу, с его правой стороны тоже крутой, но более удобный подъем, и слева пологий подъем, начинавшийся от родника. По этому широкому пути могли подниматься не только пешеходы, по нему на лошадях подвозили дрова и другие необходимые для школы вещи. Мы обычно поднимались по средней крутой тропинке (позднее, в начале 50-х годов, там построили удобную красивую лестницу) и пользовались пологим подъемом только в большую грязь.
Так как на новом месте свободного помещения для нас не было, мы учились две группы в одном кабинете. Группы занимали по два ряда парт, у каждой группы был свой учитель. Парты были двух- и трехместные, большие, за которыми мы сидели по три-четыре человека. Один класс сидел лицом к двери, другой наоборот. Учеба мне давалась очень легко, я успевала выполнять не только свои задания, но и интересовавшие меня задания (особенно по математике) другого класса, уроки которого проходили в этом же помещении.
Закончилась война. Мы узнали об этом событии так: урок только начался, когда в класс вошла мама (завуч школы). Она объявила, что закончилась война, поэтому сегодня уроков больше не будет, и все пойдут на митинг. Всех школьников построили в большую колонну. И окружным путем (по пологому спуску, через мост возле родника, по Родниковой и Большой улицам) с песнями мы через всю деревню пошли к клубу. Там уже было много народу. Звучала музыка, было много красных флагов и транспарантов. Все радовались, многие женщины плакали. Начался митинг. Сначала выступили дяденька и тетенька из района. Выступали и наши – председатель сельсовета, вернувшиеся ранеными с фронта дяденьки, учителя. Их выступления перемежались стихами и песнями в исполнении школьников. Я тоже прочитала стихотворение. Митинг закончился, но народ еще долго не расходился.
Завершая свой рассказ о жизни в годы войны в тылу, каким являлась наша деревня, хочу сказать, что, несмотря на свой небольшой возраст (от четырех до восьми лет), я очень хорошо помню события тех лет. В моей памяти хранятся образы великих тружениц - женщин и подростков, с раннего утра до позднего вечера занятых колхозной работой, а в редкие свободные минуты находивших доброе слово не только для своих, но и для чужих детей.
Продолжение следует…