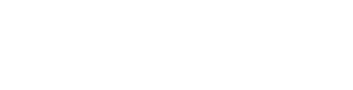Махмутова Альта Хажи кызы. Хезмэткэ хэм халыкка багышланган гомер. Часть 3

Хезмәткә һәм халыкка багышланган гомер.Часть 3. Мәхмүтова Альта Хаҗи кызы
Деревня моего детства
Нас, родившихся в 30-е годы ХХ века, в последние годы все чаще называют детьми войны. Соответственно и большинство наших детских воспоминаний относятся к годам военного и послевоенного лихолетья. Однако мои самые первые воспоминания относятся к годам довоенным. Видимо, мне было три года, когда я начала обращать внимание на окружающих меня людей, интересоваться происходившими вокруг событиями. Конечно, в памяти трехлетнего ребенка могут отразиться только события, так или иначе касающиеся его самого. Таким событием, накрепко врезавшимся в мою память, было рождение моей сестры Алисы. До ее появления весь «мир» - моя семья, окружающие меня люди – «вертелся» вокруг меня, в центре внимания взрослых была я. А теперь все их внимание перекинулось на вдруг ожившую куклу. Свою сестричку я восприняла именно как чудесным образом ожившую большую куклу – в отличие от моей большой куклы эта «кукла» шевелилась, издавала какие-то звуки. Взрослые брали ее на руки, пеленали, как мне казалось, играли с ней, но мне было разрешено только смотреть на них. Мама мне объяснила, что это не кукла, а моя сестричка, и с ней пока нельзя играть; но она будет расти, и скоро мы сможем играть вместе. Пока же я, как старшая сестра, должна оберегать ее, помогать взрослым в уходе за ней. Так у меня, как у взрослых, появились первые обязанности.
Примерно тогда же я, кажется, начала понимать, что наша деревня очень большая. Дело в том, что перед появлением сестрички меня стали водить в детский садик. Он располагался в нижнем конце деревни (примерно в километре от нашего дома, находившегося в средней ее части). По пути в садик я уставала, и часть пути я «ехала» на руках провожавших меня в садик взрослых. Самые первые мои воспоминания об отце связаны именно с этой дорогой. Однажды в садик провожал меня папа. Пройдя пару переулков, при выходе на главную улицу я запросилась к папе на руки. Но папа, вместо того, чтобы взять меня на руки, поставил меня на большой камень, отломил былинку, чем очень удивил меня. Он серьезно объяснил мне, что я уже большая девочка и не должна капризничать, и мы пошли дальше (в моем детстве отцы еще не носили детей на руках по улице).
Еще одно воспоминание, связанное с садиком. Садик располагался в двухэтажном доме. На второй этаж вела крутая лестница. Как-то я упала с этой лестницы так неудачно, что пуговицей до крови поранила подбородок; след от этой ранки остался у меня на всю жизнь как память об этом здании. Здание садика сгорело в начале 1941 года, и детский сад перевели в пустовавшее здание верхней мечети. Оно находилось в средней части главной улицы, примерно на том же уровне, что и наш дом, и мой путь в садик резко сократился. Эти первые мои воспоминания продолжили события военных лет, о которых я уже рассказывала.
До школы я была очень мало знакома с нашей большой деревней, так как мы, малышня, без взрослых не уходили далеко от своих домов. Хотя мы большую часть времени проводили на улице, во время своих игр ограничивались территорией, включающей лишь два-три квартала своей улицы. Лишь начав учиться, я начала более основательно знакомиться с деревней. Во-первых, мы начали учиться в здании нижней мечети, и, чтобы дойти до него, нужно было пройти половину деревни. Во-вторых, мои одноклассницы жили в разных концах большой деревни. Времени после уроков у нас было много, поэтому мы иногда посещали друг друга. Росла я, и постепенно прибавлялись мои познания о деревне, о ее улицах и переулках не только по рассказам, но и воочию. Деревня моего детства - это Бизяки 1944-1951 годов, периода, ограниченного моей учебой в бизякинской школе. Опишу деревню такой, какой она запечатлелась в моей памяти.
Наша деревня была расположена вдоль длинной, но маловодной речки, которую мы называли просто «инеш», и тянулась она километра на два. Она состояла из трех параллельных улиц и множества переулков. Средняя улица считалась главной. Ее называли «Олы урам (Большая улица)», она была длинная и прямая, просматривалась почти насквозь. Там проходила большая дорога «тракт», были расположены все общественные здания — сельсовет, почта, правления колхоза и промышленной артели, библиотека, два магазина. На этой же улице были и здания двух мечетей — первая мечеть находилась в центре деревни, оставаясь слева при повороте дороги с въезжего переулка на главную улицу. Вторая была построена в километре от первой в нижнем конце этой улицы. В моем детстве в нижней мечети располагалось несколько начальных классов, а в верхней — детский садик. Вокруг этой мечети большой участок был огорожен забором, вдоль которого росло много кустов сирени. Половина главной улицы располагалась вдоль тракта, который около нижней мечети спускался вниз с холма, поворачивал налево, и, пройдя по мосту через речку, поднимался на следующий холм.
Сразу при въезде в деревню по тракту была расположена «Арт урам (Задняя улица)». Она была не такая прямая, как «Олы урам» и не такая широкая. Мне всегда было непонятно, почему она называется задней, если является первой при главном въезде в деревню. По моей детской логике так должна была бы называться третья улица, расположенная по увалу вдоль речки и как бы повторявшая ее изгибы. Но она называлась «Кече урам (Малая улица)», хотя была почти такая же длинная, как и главная улица. Я уже писала, что была очень любознательной девочкой, настоящим «почемучкой», с вопросами «приставала» ко всем и не отступала до тех пор, пока не получала удовлетворявшего меня ответа. Так произошло и в этот раз. Мне, наконец, кто-то объяснил, что название улицы определяется по отношению к речке, и что «Арт урам» появилась позднее двух других. Оба въезда на главную улицу завершались «басу капкасы (полевыми воротами)». Полевые ворота – это два столба, врытых на обеих сторонах улицы; к одному столбу прикреплялись «ворота» - прямоугольник, представлявший собой решетку из толстых жердей или плетенку из прутьев. Днем ворота были открытыми, а на ночь они закрывались и привязывались ко второму столбу толстой веревкой-канатом. А две другие улицы завершались со стороны поля поперечным плетнем.
Кроме этих трех параллельных улиц были еще три поперечные: «Тау башы (Нагорная)», «Тау асты (Подгорная)» и «Чишмә башы (Родниковая)». Нагорная улица как бы продолжала главную улицу, то-есть, располагалась вдоль тракта, но за речкой через мост на другом холме. Она тянулась не вдоль речки, а вверх от нее с запада на восток. Подгорная улица являлась как бы продолжением Нагорной и находилась в нижней части деревни под холмом, на котором располагались основные улицы. В отличие от других улиц, где дома стояли в два ряда друг против друга, она была односторонней. Родниковая улица находилась в верхней части деревни. Начиналась она от «Кече урам» и вела вниз к большому роднику, откуда брали воду для питья. Улицы, расположенные параллельно речке, через равные промежутки были пересечены множеством переулков. Они были более узкими, но прямыми и достаточными для проезда транспорта (тогда гужевого). Переулки назывались либо именами и прозвищами людей, проживавших в домах, расположенных в переулке или около него, либо по общественным зданиям (Госман тыкрыгы, Чәрләй тыкрыгы, Мәчет тыкрыгы и т.д.). Были и тупиковые проулки. Такие проулки преобладали на Нагорной и Родниковой улицах. Наш дом находился в таком же тупиковом проулке. В моем детстве почти все дворы и улицы-переулки уж весной покрывались мягкой душистой травой; для нас, детворы, эта трава-мурава служила удобным покровом для игр.
Дома в деревне были одноэтажные, деревянные, представлявшие дом-пятистенок (алты почмаклы өй) – соединение двух срубов, имеющих общую стену, или избу (дүрт почмаклы өй), соединенную с сенями. Лишь на Главной улице было два-три двухэтажных дома, нижняя часть которых была сложена из камня, а верхняя - из дерева. Сени в пятистенках примыкали к задней избе или располагались в средней части между двумя избами. В первом случае они, как правило, были дощатыми и сбоку имели один или два чулана. Внутри нее помещение обоего типа домов – жилая часть - обычно не имело деления на отдельные комнаты. Но определенные участки дома имели свое предназначение и при необходимости могли отделяться занавесками (чаршау). В домах-пятистенках передняя изба, выходившая окнами на улицу, считалась парадной (алгы як или ак йорт). Она больше служила спальней для хозяев и местом для приема гостей. Повседневная жизнь обычно протекала в задней избе.
Значительную часть помещения занимала печь. Она устанавливалась в противоположном от двери углу, боком к ней, на некотором расстоянии от стены. Это было, видимо, связано с противопожарной безопасностью и стремлением увеличить площадь теплоотдачи. Печь в передней части имела два параллельных выступа. В один из них вмазывался чугунный котел, в котором готовили пищу. Второй назывался “гөлбәч”. Туда обычно ставили керосиновую лампу. Вообще печь выполняла целый ряд функций – обогревания помещения, приготовления пищи, выпечки хлеба и пирогов, сушки продуктов, одежды и обуви, хранения кухонной утвари, места отдыха пожилых и обогрева детворы. Участок перед печью, игравший роль кухни, обычно отделялся занавеской. Зимой там же огораживали участок для новорожденной живности.
Другую большую часть дома занимали нары (сәке). Они располагались в передней части избы под окнами от стены до стены и, занимая почти половину дома, заменяли собой стулья, диван, кровати и даже стол. В один из углов нар днем складывались спальные принадлежности. Остальные части нар днем служили местом игр детей, там же бабушки читали намаз. Там же и ели: стелили посредине нар скатерть и садились вокруг нее. А на ночь нары превращались в большую кровать. Были и полати. Они обычно устраивались за печкой и служили местом хранения вещей и утвари, а иногда и местом для сна детей.
Обязательной принадлежностью почти каждого дома были сундуки различного объема, обитые жестью. В них хранили одежду, полотенца и другие наиболее ценные вещи, например, приданое, которые девушки начинали готовить заранее. На сундуках спали, на них же складывали одеяла, подушки и т.д. А у бабушек в сундуках, кроме праздничной одежды, полотенец, платков, шалей и заранее приготовленных для похорон вещей, хранились маленькие узелочки с разными вкусностями, так привлекательными для нас, детворы. В них были горсточки разных сушеных ягод, изюма, орехов, пряностей, конфет, пряников, печенья и даже бавырсаки, которые манили детвору. А смешанный с нафталином запах всего этого запомнился нам на всю жизнь. Несмотря на этот незабываемый запах, мы, дети военной поры, всегда ждали, когда же бабушки откроют свои волшебные сундуки и, возможно, угостят нас конфеткой, кусочком сахара, орешками или сушеными ягодами.
В памяти встает незабываемая картина: середина лета... Старшие на работе, дома только бабушка, я и Алиса. Вот бабушка, завершив намаз, подходит к своему сундуку. Она обычно после намаза доставала из своего сундука и читала книгу. Мы, опасаясь даже вздохнуть, смотрим за ее действиями. Бабушка долго ищет в своих карманах ключ от сундука (она обычно надевала на себя несколько платьев, и требовалось много врмени, чтобы в одном из многочисленных карманов найти ключ). Наконец, ключ находится, открывается сундук, из него до нас доходит своеобразный влекущий нас запах бабушкиного сундука. Маленькая Алиса уже около бабушки. Бабушка же “колдует” над своими узелками. Алиса – хрупкая, худенькая девочка четырех-пяти лет (мне думалось иногда, что она похожа на ангелочка из сказок) - не выдерживает и спрашивает: “Бабушка, а это что?”... Бабушка не может оставить ее вопрос без ответа. Иногда она даже дает сестре что-то из из своих запасов и сухо говорит: “Уходи, не путайся здесь под ногами”. Мы уходим, делим 4-5 ягодок смородины или черемухи и долго сосем их, пытаясь растянуть удовольствие...
Наш дом находился в тупиковом проулке в самом центре деревни. Проулок этот ответвлялся от Малой улицы в сторону речки и как бы являлся продолжением въездной части тракта, которая через Главную улицу переходила в переулок Гусмана. Продолжением его и являлся наш проулок. В нем было всего два дома. В первом от улицы маленьком доме жила тетя Камиля с тремя маленькими детьми. Весной 1942 года она и ее двое детей умерли, отравившись прозимовавшим зерном, а оставшегося в живых мальчика отправили в детдом. В этот дом позже переехали Исмагил абый Бахтигараев с женой Хамденисой и детьми-подростками Заки и Зафирой.
Тупик завершался огромными (не только на детский взгляд) и тяжелыми воротами, за которыми располагалась наша усадьба: широкий двор, поросший травой, большой дом-пятистенник, хозяйственные постройки, сад перед домом и за ним. Сразу за воротами по правую сторону находилась каменная кладовая с железной дверью и деревянным сеновалом наверху, за ним следовал лабаз с большими воротами, куда на зиму свозили сено для скота и дрова. Затем отдельно стояли ледник (он заменял холодильник, о котором мы тогда и не слышали) и баня. Рядом с баней была небольшая калитка, от нее тропинка спускалась к речке. Здесь открывалась прекрасная панорама: под горой участок, на котором мы сажали картофель, и речка, берега которой покрыты тальником; за ней довольно широкая и ровная долина, на которой картофельные участки, доходившие до цепочки “гор” - так мы называли противоположный берег. Увалы этой возвышенности весной покрывались зеленым ковром разных трав и цветов, зимой же они становились белоснежными. Ими можно было бесконечно любоваться...
По увалу параллельно реке шла вторая группа хозяйственных построек под одной крышей: дровяник, открытый со стороны двора лабаз, и соединенные друг с другом два теплых сарая из бревен для коровы и овец. Там же был и курятник. За постройками находился довольно крутой склон, а внизу участок, где мы сажали картофель. С левой стороны от больших ворот шел сплошной забор, отделявший нашу усадьбу от соседних, расположенных по линии улицы. Наш дом-пятистенок располагался посредине северной стороны двора. Он несколько отличался от большинства домов в деревне не только своим расположением, но и внутренним убранством. В нем не было привычных для обычного сельского дома широких нар и полатей. Вместо них использовались фабричные кровати, самодельные шкафы, диваны, столы и стулья. В целом, не только убранство, но и весь наш быт был устроен несколько “по-городски”, или, как говорили сельчане, “по-учительски”. У нас были патефон с пластинками, ножная швейная машина, велосипед; до войны был и радиоприемник (с началом войны его забрали в район). Мама, мастерица на все руки, и одежду нам шила “по-городски”. Она обращала внимание и на нашу речь, учила нас правильной литературной речи. Однако, несколько различаясь одеждой и речью, мы во всем остальном не отличались от других детей.
В соседних домах было много детей, впрочем, как и по всей деревне, где в каждом доме росло не меньше трех-четырех детей. Несмотря на войну и не менее голодное послевоенное время, нехватку еды и одежды, мы много и весело играли. Обычно для игр собиралось 5-10 соседских девочек. Каких только игр не было у нас! Прятки, догонялки, классики, «глухой телефон» и т.д. летом, катанье с горки на санках и самодельных ледянках зимой… Особенно вольготно мы, детвора, чувствовали себя летом. Летом улицы, как и дворы наших домов, покрывались мягкой пушистой травой, и только посредине улицы пролегала еле заметная колея от подвод. Мы бегали босиком, одежды было минимум. Летом наши руки и ноги покрывались цыпками. Папы были на войне, мамы - на работе. А за нами присматривали бабушки, свои и чужие.
Вообще-то бизякинцы народ довольно суровый, даже резковатый, детей не баловал. Не было никакого сюсюкания. Да и ласковые слова от взрослых мы почти не слышали. Но по отношению к детям они были справедливы, без повода нас не ругали. Во многом мы были самостоятельны, но при необходимости со своими детскими бедами и горестями можно было поделиться с любым взрослым, особенно с соседями (и мы были уверены, что нам помогут). Хотя и росли, в основном, на улице, мы не можем сказать, что были заброшены. Можно сказать, у нас был коллективный воспитатель - вся деревня. И взрослые нас воспитывали не словом, а делом.
Наш главный воспитатель – это труд. С раннего детства на примере взрослых мы приучались трудиться. С пяти-шести лет у каждого из нас были свои обязанности – мы должны были присматривать за домашней птицей, вовремя ее кормить-поить; относить из речки воду телятам, которых старшие, уходя на работу, оставляли на привязи на пригорках на той стороне реки, встречать свою живность при возвращении стада и т.д. Все эти дела нужно было выполнять добросовестно и вовремя, - тогда никто нас не ругал (но и не хвалил тоже – просто так положено поступать). Так с раннего детства мы приучались к ответственности, привыкали к понятиям, что такое хорошо и что такое плохо. Самой же большой нашей обязанностью был присмотр за младшими сестренками и братишками. Они постоянно были с нами, участвовали в наших играх. Хотя у нас были и куклы, сделанные руками старших. Но ими мы играли обычно дома осенью-зимой. А летом нам игрушки были не нужны, точнее, все могло стать игрушкой – старая лапоть становилась санями или телегой, осколки разбитых чашек и листы лопуха превращались в посуду. Вечно голодные, мы знали, какие травы, ягоды и корни можно есть, и с увлеченьем их собирали. При этом не забывали следить за младшими, чтобы они не тащили все в рот…
О соседях. При выходе из нашего проулка на Малой улице направо был дом Ясави абзый Галеева. Его жена Минникамал плохо видела, была больна и всегда была дома. У них было трое сыновей – подросток Нургали абый, Саетгали (старше меня на три-четыре года) и Тимергали (зимой 1943 года он заболел тифом, после которого, как говорили взрослые, «тронулся умом»). У Ясави абый были и две сестры – Асма и Банат. Банат апу я хорошо помню – она помогала маме по дому и присматривала за нами (в 1943 году она умерла, возможно, от тифа).
Слева от проулка находился дом бабушки Гайши Ахметзяновой. Гайша эби, проводив на войну всех своих детей - трех сыновей (Муллахмета, Хузяхмета, Минахмета) и дочь Нагиму – жила вместе с дочерью Мачтурой и внучкой Вафирой. Они жили очень бедно. Я, например, помню такую картину: Гайша эби и тетя Мачтура сидят за столом. Они уже съели картошку “в мундире” или кашу из дикого лука. На столе большой кипящий самовар (такие называли “ведерными”) и чайное блюдце с небольшим количеством муки. Больше на столе ничего нет. Перед ними чашки с горячим чаем (заварка – сушеное разнотравье или морковный чай). Они, по очереди, макают палец в муку, слизывают ее и выпивают чашку чая; затем также выпивается вторая, третья чашка… Таков, видимо, был часто их обед.
Из всех соседских бабушек я лучше всего помню Гайша эби. Бабушка Гайша была очень доброй и почему-то любила с нами общаться (может, потому, что у нее не было своих малых внуков). Не находя тепла от своей родной бабушки, я его, видимо, искала у Гайша эби. Иногда она нам рассказывала сказки, легенды, напевала баиты и мунаджаты. Это, конечно, бывало не часто. Но вот Гайша эби, покончив с домашними делами, садится у ворот отдохнуть. Мы, детвора, тут как тут: собираемся около нее, просим рассказать что-либо. Мне особенно нравилось слушать баиты и мунаджаты в ее исполнении. Бабушка Гайша тоненьким голоском напевала их, а потом объясняла их содержание.
Или вот еще одна картина. Папа обычно привозил к нам на лето бабушку, а зимой она жила в Бондюге, с тетей Нурнидой. В один из дней бабушка “устраивала прием”: приходили ее проведать несколько бабушек-родственниц и подруг. Как правило, в такие дни дома никого (кроме меня) не было. Я же устраивалась с книгой в уголке другой половины дома и старалась сидеть очень тихо, не привлекая бабушкиного внимания. Обычно приходили Кудря-аби с Родниковой улицы, Сарби аби с Нагорной и соседка Гайша аби. Сначала они со вкусом пили чай, обсуждая свои новости, потом читали намаз. В это время я тихо пробиралась к ним в переднюю половину дома и пряталась под столом. Затем они снова садились за стол. И вот тут-то начиналось главное, из-за чего я так терпеливо высиживала дома и пряталась под столом: бабушки начинали читать нараспев мунаджаты и баиты.
Я их слушала с большим вниманием, старалась запомнить, а когда расходились гости, начинала “приставать” к бабушке: “Бабушка, спой, пожалуйста, баит (например, “Сак-Сок”), или только вот это место, объясни, пожалуйста...”. От бабушки же обычно в ответ звучало: “Я не пою, петь грешно... А ты опять пряталась да?” Я: “Вот же, вы пели. Спой уж, пожалуйста”. Бабушка: “Мы не пели, баиты и мунаджаты сказывают (напевают), а не поют...”. Я, не понимая разницы между пением и напеванием, опять: “Ну, не пой, а напой, пожалуйста, только вот это место, я не успела его запомнить”. Бабушка: “Ну и упрямая же ты, все стараешься по-своему делать... Иди, исчезни из глаз моих...”. Вот тогда я уходила к Гайша эби... Так я постепенно знакомились с произведеньями устного народного творчества (“Сак-Сок бәете”, “Алабуга бәете”, “Әхмәдиша бәете”, “Таһир-Зөһрә”, “Бәдәвам” и другие я узнала именно от Гайша эби в детстве).
Напротив ее дома жила тетя Рахима. Детей у нее не было. Рядом с ее домом росла большая черемуха, ягоды которой были для нас очень соблазнительны. Со временем они начинали осыпаться, а иногда и соседские мальчишки трясли ее ветки – вот тогда для нас наступал пир: мы с земли собирали упавшие гроздья и ели эти терпкие, но вкусные ягоды (нам сводило скулы, губы и язык становились синими, а мы не могли остановиться).
Рядом с этим домом был дом Гайшаттай Каримовой. Она, проводив на войну мужа, осталась одна с четырьмя детьми мал-мала меньше (подросток Хадича апа, моя ровесница Файруза, ровесница Алисы Фания и новорожденный сын Шарипҗан). Эта маленькая, худенькая женщина никогда не унывала. Даже в самые тяжелые дни, когда свою ораву нечем было кормить, она не забывала спросить нас, не голодны ли мы, и поделиться последней лепешкой из мерзлой картошки или тарелкой супа (каши) из дикого лука. Эта маленькая женщина так и не дождалась своего мужа, погибшего в 1942 или в 1943 году под Сталинградом, но, несмотря на такое огромное горе, не потеряла духа, не поддалась горю, осталась такой же доброй и справедливой, находила повод пошутить, поднять настроение всегда полуголодным детям.
Я помню имена и десятков других наших соседей и односельчан. Вот несколько семей Башаровых: дом одного из самых авторитетных людей в деревне Гусмана абзый был в переулке, носившем его имя ( я помню не только его самого, но и его сыновей-подростков Рашита и Рифката). На углу, соединявшем переулок с Малой улицей, жила Газзаттай с сыном Фоатом. Ее две дочери были мобилизованы на работу на железной дороге. Через один или два дома от нее был дом Шункар абзый и Бадарттай. Их единственный сын Мирсает абый был призван в армию буквально за неделю до начала войны, в 1942 году даже приезжал долечиваться после госпиталя. Он провоевал всю войну, а его родители и жена Таскира апа с маленькими сыновьями Минегали и Мулламухаметом дождались его возвращения. Шункар абзый в 1942 году также был призван в армию, служил в обозе и вернулся домой через год или два службы. С войны он вернулся совсем другим человеком: если до войны он любил возиться с детворой, то вернулся неразговорчивым, замкнутым; устроился в рыболовецкую бригаду и с ранней весны до поздней осени пропадал на Каме, возвращался в деревню только помыться в бане, поменять белье да взять кое-что из продуктов…
Научившись читать в четыре-пять лет, я перечитала сначала все книги на кириллице, имевшиеся дома. Читала я и книги, которые приносили старшие сестры и мама из библиотеки. Мне было шесть-семь лет, когда в чулане под половицей я случайно нашла две аккуратно завернутые в мешковину книги. Однако читать эти книги я не могла, так как многие буквы были мне незнакомы. Помогла мне соседка Зафира апа. Ей было 13-14 лет, и я постоянно обращалась к ней с различными вопросами и просьбами. И тут она помогла, написав мне печатными буквами новый для меня алфавит. Так я познакомилась с “яналиф”ом (татарским алфавитом на латинице). Решив, что кто-то убрал эти книги, как ненужные (что “яналиф” отменили, мне сказала Зафира апа), я начала читать. Первая книга оказалась сборником пьес Карима Тинчурина. Я довольно легко ее одолела. Но самое главное, мне очень понравилось читать пьесы – они оказались гораздо понятнее и занимательнее, чем сплошные тексты «толстых» книг, которые я уже читала на кириллице.
Но вторая книга - роман “Наши дни” Галимджана Ибрагимова - оказалась для меня малопонятной. И я решила обратиться за помощью к маме, которую мы видели тогда очень редко. Оправившись после болезни, она вновь работала от зари до зари - кроме учительства, она еще была звеньевой в колхозе. Дождавшись маму ночью, я попросила объяснить мне непонятные места в книге. Но мама почему-то страшно побледнела, вместо объяснений спросила меня, где я взяла эту книгу, кто видел ее у меня, отобрала у меня книги и запретила мне даже вспоминать о них. Вот так обстоятельства приучали нас не задавать “лишних вопросов”, быть осмотрительными. Объяснения по этому поводу я получила, только повзрослев, когда имена этих писателей и их творчество вернулись к нам. Мама рассказала, что тогда учителей обязали сжечь книги “врагов народа”, но у нее, учительницы татарского языка и литературы, не поднялась рука на такое святотатство. А за хранение книг «врагов народа» можно было и в тюрьму угодить. С тех страшных лет у мамы выработалась устойчивая привычка – все купленные книги (даже для нас) она после прочтения отдавала в школьную библиотеку, объясняя нам это тем, что мы их уже прочитали, и другим, еще не прочитавшим их, они нужнее.
После того случая с книгами мама записала меня в библиотеку. Библиотеку мы называли «избач» (сокращенное от «изба-читальня»), и находилась она на главной улице. Я уже давно хотела брать книги из библиотеки (несколько библиотечных книг мне давала читать и Зафира апа), но мне объяснили, что туда записывают только школьников. И вот, в порядке исключения, я как взрослая, стала ходить за книгами в библиотеку. Что за книги я читала? Конечно, это, прежде всего, были сказки и стихи. Я их читала залпом. Они запоминались легко, с одного-двух прочтений. Я полюбила стихи Габдуллы Тукая (впрочем, многие из них я уже знала наизусть), Хади Такташа, Фатыха Карима и других. Помню, какое сильное впечатление на меня произвела трагедия Хади Такташа «Җир уллары (Сыновья Земли)”. Было много произведений о войне. Это были тоненькие книжечки о героизме наших солдат, о подвигах партизан, о зверствах фашистов…
О прочитанном я любила рассказывать всем, кто меня слушал. Прежде всего, это, конечно, были мои сверстники, с которыми мы с Алисой проводили много времени. Они слушали мои рассказы почти также с интересом, как и рассказы бабушек. Поэтому, когда я проигрывала во время какой-либо игры и должна была выполнить что-нибудь в наказание, меня все чаще просили рассказать что-либо из прочитанного. Иногда к моим слушателям прибавлялись и бабушки, которые, как и дети, воспринимали героев моих рассказов как живых, знакомых им людей, переживали их беды и горести, радовались их победам. Особенно часто это случалось, когда я пересказывала рассказы и стихи о войне. Начав учиться в школе, я приобрела новых слушателей. Это были мои одноклассницы, многих из которых до школы я почти не знала, и мои любимые учительницы Рахиля апа и Амина апа. Проучившись в первом классе у Рахили апа, я “перескочила” через класс и стала учиться в третьем классе у Амины апа, так как и учителя, и мама (завуч) решили, что я справлюсь с программой третьего класса.
У Амина апы я училась в третьем и четвертом классах. Это было тяжелое послевоенное время. Полуголодные, плохо одетые, но тянущиеся к знаниям, мы готовы были выполнить любое задание нашей любимой учительницы. Она проводила с нами много времени и кроме уроков. Я помню, как она организовывала для нас экскурсии по окрестностям деревни. Так, в третьем классе в конце учебного года она повела нас на колхозный пчельник, находившийся в полутора-двух километрах к востоку от деревни. В конце учебного года в четвертом классе мы пошли исследовать нашу речку. Шли вдоль речки (и по ней тоже) вверх по течению. Хотя мы и не дошли до истока Бизякинки (Амина апа сказала, что он находится очень далеко), она повела нас к началу маленького ручейка, который впадал в нашу Бизякинку. Он начинался с маленького ключа, бившего из-под земли. Амина апа объяснила, что исток нашей Бизякинки такой же; по ее течению в нее вливаются много ручейков и наша речка становится все больше и многоводнее...
1946 год оказался необычайно засушливым, неурожайным. Зима 1946-1947 года запомнилась мне как одна из самых тяжелых и в жизни нашей семьи. Во-первых, тяжело болел папа. Во-вторых, это была не менее голодная, чем в военные годы, зима. Голодно было всем. И у нас в доме, где даже в годы войны мы ели хлеб из ржаной муки, мама стала печь хлеб из смеси ржаной муки и тертого картофеля. Я не могла есть этот хлеб, даже от его запаха меня тошнило. К тому же я почему-то решила, что скоро умру. Не знаю, так повлияла на меня папина болезнь, или чья-либо смерть (а их в эту зиму в голодной деревне было достаточно много), или прочитанная книга, но я совершенно искренне считала, что не доживу до своего десятилетия. И я заявила, что все равно скоро умру, поэтому не буду мучиться и есть то, что не принимает мой организм.
Все считали, что это очередная моя фантазия, мой каприз. Но мама восприняла мои слова серьезно и стала выпекать для меня отдельный хлебец из чистой муки. Это особенно раздражало папу (чего только не пришлось ему есть в плену!): он был уверен, что мама балует меня. По его настоянию мама испекла мне хлеб из общего замеса, но той формы, к какой я привыкла. Хотя я не знала этого, но сразу, по запаху, определила подмену. Я не могла есть не только этот хлеб, но и картофельные оладьи (драники), которые иногда пекла мама, и лепешки, которые пекли во всей деревне из прозимовавшей на поле картошки. А вот Алисе они очень нравились. Она их ела в доме у Гайшаттай, и просила маму испечь такие же. Чтобы выполнить ее “заказ”, мама обменяла у соседей хорошую картошку на мерзлую. И не только Алиса, но и все желающие в доме несколько раз “лакомились” “новым блюдом” в нашем доме. Этот случай говорит о том, что мама прислушивалась к нам и, по мере возможности, исполняла наши желания (говоря словами других взрослых, “потакала нашим капризам”).
Мама всегда была для меня примером, непререкаемым авторитетом. Она очень любила свою работу, которой отдавалась душой и сердцем, но и домашние дела она выполняла легко, без видимых со стороны усилий. И это при том, что сельские учителя целыми днями были заняты как профессиональной, так и общественной работой. Я не знаю, когда она все успевала, но у нас всегда в доме был порядок, еда (и самая обычная, и всевозможные пироги) приготовлена, домочадцы присмотрены. В свободные же минуты она занималась с такой же охотой рукоделием – шила, пряла шерсть, вязала. На своей швейной машинке она обшивала не только нас, домочадцев, но и других сельчан (девушек и молодых женщин). Могло быть и так: какая-то из них могла придти в буквальном смысле накануне праздника с куском ткани, и мама всю ночь проводила за машинкой, чтобы девушка могла покрасоваться на празднике в новом наряде.
Мама всегда поддерживала наши мечты. Например, когда в четырехлетнем возрасте я решила стать капитаном, она плддержала меня, сказав, что имеются такие училища, где “готовят” капитанов. А в 1944 году она обратила мое внимание на напечатанный в газетах указ, запрещающий принимать девушек в речные техникумы Тогда (в семилетнем возрасте) я сказала, что буду учительницей, и мама меня поддержала, сказав: “Очень хорошо. Семь поколений твоих предков учительствовали. Нет профессии более уважаемой и нужной, чем учительство и воспитание детей”. Естественно, будучи почемучкой, я тут же стала расспрашивать про наших предков. Но, сколько бы я не старалась узнать подробности о них, тогда мама категорически прекратила мои расспросы. В моем детстве расспрашивать о предыдущих поколениях родственников было не положено. Даже моя настырность и любознательность останавливались, если мама произносила три слова: “Узнаешь, когда вырастешь”. Мои попытки познать прошлое наших предков отложились на более поздний срок, ибо к периоду своего взросления я уже научилась не интересоваться прошлым своего рода. К этому времени в нас уже укоренилось крепкое убеждение, что настоящая история начинается только с Октября 1917 года, а в жизни простого люда до революции ничего интересного не могло быть, так как в ней царили лишь темнота да невежество.
И к истории семи поколений маминых предков я вернулась не просто взрослой, а став уже намного старше, только в 1970-1980-х годах. Именно тогда в разговорах с мамой и маминым братом Шахвали абый я узнала их родословную. Вот она: Такаш - Ирей - Сыбай - Мостафа - Гомар - Мухаммедамин - Сагдетдин - Валиахмет – Шахвали (Ркия) – Хасан (Альта). Несколько поколений наших предков по маминой линии были духовными лицами (азанчи и муллами) в своей родной деревне Мочалей Буинского уезда Симбирской губернии и, следовательно, обучали и воспитывали и детей, и взрослых.
Мне не суждено было расти с дедушками. Папин отец Ибрагимов Махмут бабай умер еще в 1921 году, а с маминым отцом, Субаевым Валиахметом (1870-1949) я общалась лишь несколько раз, так как он жил в Елабуге и умер, когда мне было всего 12 лет. Но все же дедушку Валиахмета я помню очень хорошо. Мама после войны возобновила учебу (заочно) в Елабужском учительском институте и брала меня с собой в Елабугу на время летней сессии. Вот эти две-три недели я и общалась с мамиными родителями. Помню уроки и наставления дедушки, которые получила при общении с ним. Моя память сохраняет его незабвенный образ. Это был худощавый, очень опрятный, аккуратный во всем, очень приятный в обращении дедушка. Его ласковый взгляд, приветливое обращение, негромкий голос, совершенно седые аккуратно подстриженные волосы и борода – все в нем привлекало взгляд, выдавало в нем незаурядного человека.
Дедушка мой любил во всем порядок, его ежедневный распорядок состоял из точно выполняемых правил: пятивременный намаз, утром чай с несколькими блинчиками, в обед неприхотливая еда, затем чтение и небольшая прогулка, а вечером вся семья собиралась за столом на ужин. Меня всегда удивляло, что вернувшись с работы или учебы, его взрослые дети проходили в его комнату и подробно рассказывали о своих делах. Я ни разу не видела дедушку разгневанным, он никогда в разговоре не повышал голос. У дедушки была очень красивая, правильная речь. Говорил он с еле заметным акцентом (как я теперь понимаю, мишарским) литературным языком. В своей речи он обычно использовал различные поговорки и пословицы, вставлял и стихотворные отрывки. Мне казалось, что от него идет какое-то тепло, он как бы был источником добра и света. Даже сейчас, когда я вспоминаю дедушку Валиахмета, я невольно улыбаюсь, в памяти возрождаются его “уроки”, его наставления, и понимаю, что это был высокообразованный интеллигент. Только в 80-х годах ХХ века я узнала, что дедушка был репрессирован в 1931 году как духовное лицо, его имущество конфисковано, а сам он сослан в Сибирь на 5 лет. Вернулся он оттуда совершенно больным, но не в родную деревню, а в Елабугу (поэтому-то мама ничего не рассказывала о прошлом своих предков)...
Продолжение следует...